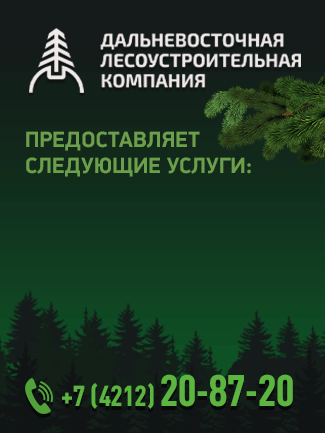Эльгу взять, патронов не давать
-
07 июля 2014
- /
-
Эксперт, №28 (907), 7 июля 2014 года
Запуск крупнейшего в России угольного месторождения — Эльгинского — поставил под угрозу компанию «Мечел». Это не единственный пример того, как расходы на инфраструктуру и освоение территорий делают крупные сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири неподъемными для частного бизнеса
.jpg)
«В этом году у нас на Эльге невероятное нашествие медведей. Уже штук десять заходило», — рассказывает директор «Якутугля» Игорь Хафизов. Опытный хищник боится шума дизелей, в поселок вахтовиков заходят молодые медвежата. В июне им нечего есть в лесу, и они приходят к человеческому жилью покопаться в мусоре. До ближайшего якутского города Нерюнгри более 400 километров. В тайге, среди гор Токинского становика, вдали от аэропортов, дорог, линий электропередачи «Мечел» разрабатывает Эльгинское угольное месторождение — одно из крупнейших в мире, с разведанными запасами 2,2 млрд тонн. Это один из самых значимых проектов в мировой угольной отрасли за всю ее историю и крупнейший проект по производству коксующегося угля в России.
Второй год на месторождении работает обогатительная фабрика, способная обрабатывать до 2,7 млн тонн угля в год. Белоснежное здание новенькой фабрики кажется еще белее на фоне черного угля. Пока на полную мощность ее не загружают, в этом году она переработает 1 млн тонн. Запуск фабрики стал возможен лишь после того, как «Мечел», собрав все силы, построил железную дорогу Улак—Эльга длиной 321 километр. Дорога давалась тяжело: проект оказался крайне дорогим и заметно подкосил компанию. У нее начались проблемы с кредиторами, что повлекло за собой драматическое падение капитализации (см. график 1), а теперь стоит вопрос о помощи компании и ее финансовом оздоровлении. Банки-кредиторы выступают с инициативой выпуска конвертируемых в акции облигаций. В перспективе это может грозить размытием доли ее нынешнего владельца Игоря Зюзина.
Но если бы железной дороги не было, не было бы и Эльги. Страна не получила бы импульс для развития на Дальнем Востоке. А крупнейший в мире Токинский угольный бассейн с потенциальными запасами угля 40 млрд тонн так и остался бы лишь перспективным районом для освоения будущими поколениями.
Советский актив
«Мечел» пришел в Якутию в 2007 году. Компания участвовала в аукционе на покупку последнего неприватизированного угольного актива в стране — «Якутугля». На этом аукционе продавалось 75% акций компании, добывающей по 9–10 млн тонн угля на трех предприятиях: разрез «Нерюнгринский», разрез «Кангаласский» и шахта «Джебарики-Хая». Дополнительно в лот была включена лицензия на Эльгинское месторождение и идущий к нему шестидесятикилометровый участок железной дороги. Правительство Якутии поставило перед победителем конкурса обязательное условие: достроить железную дорогу от БАМа до Эльги не позднее 30 сентября 2010 года. За лакомый актив «Мечел» сражался ожесточенно: итоговая цена составила 58,2 млрд рублей при начальной цене 47,4 млрд рублей. Но «Якутуголь» стоил того.
Это крупнейшее угольное предприятие на востоке страны — наследие большой советской стройки, БАМа. Проектируя эту железную дорогу, Советский Союз планировал создать на Дальнем Востоке от 9 до 11 промышленных зон, которые должны были трудоустроить до 8 млн человек. Но единственным реализованным масштабным проектом стал «Якутуголь».
Для освоения месторождения коксующегося угля 40 лет назад началось строительство города Нерюнгри, население которого доходило до 100 тыс. человек (сейчас осталось 50 тыс.). Этот угольный проект целиком и полностью детище министра угольной промышленности СССР Михаила Щадова. Нерюнгри сильно отличается от классических советских угольных городов Кузбасса и Донбасса в первую очередь качеством населения. Старые угольные шахты осваивали силами бывших крестьян, согнанных на стройки в пору индустриализации, и заключенных. Менталитет жителей этих городов до сих пор дает знать о непростом прошлом. Якутский уголь осваивали силами комсомола. На фабрики и разрезы за доллары закупалось лучшее импортное оборудование. Требованием к рабочим и водителям японских грузовиков и американских экскаваторов было наличие высшего образования.
Создатели Нерюнгри постарались сделать город максимально удобным для жизни: широкие проспекты на окраинах колоритно смотрятся рядом с тайгой, в каждой школе — бассейн, мощная спортивно-оздоровительная база для работников. Помимо этого в Нерюнгри действует даже по текущим меркам современный промышленный кластер, заточенный под нужды «Якутугля». Местный ремонтный цех может воспроизводить самые сложные детали большегрузных, в первую очередь импортных, автомобилей и экскаваторов. Все строения делались с советским запасом прочности. Местные говорят, что стены ремонтного цеха должны были выдержать падение атомной бомбы, хотя важнее оказалось выдержать суровый климат Якутии с периодическим падением столбика термометра ниже 50 градусов.
«Якутуголь» до сих пор работает как часы. Основной добывающий актив — разрез «Нерюнгринский». Это своего рода предшественник Эльги: обкатанные тут компетенции и технологии применяются при освоении Эльгинского разреза. Нерюнгринский разрез — это огромный карьер глубиной более 300 метров. По его краям едут двухсоттонные БелАЗы, вывозящие горную породу. Расчистка вскрыши — грунта, под которым находится уголь, — не прекращается ни на минуту. Задержка работы экскаватора хотя бы на пять минут приводит к возникновению пробки из огромных грузовиков. Самосвалы тут же выстраиваются в очередь к восьмидесятитонному американцу-погрузчику P&L. Оркестр большегрузной техники и семь тысяч человек работают практически не останавливаясь. Для того чтобы добыть тонну коксующегося угля, необходимо снять 5,2 кубометра породы, и это неплохой показатель. У некоторых предприятий отрасли он доходит до 30! Этот коэффициент в основном и определяет экономику предприятия. По данным СМИ, себестоимость добычи угля в Нерюнгри составляет от 31 до 37 долларов. Еще 40 долларов уходит на доставку этого угля в порт. В порту японцы, китайцы или корейцы уже готовы платить по 110–120 долларов за тонну. Так что даже текущие рекордно низкие за последние семь лет цены на уголь позволяют «Якутуглю» оставаться рентабельным.
По мнению наблюдателей на аукционе, «Мечел» сильно переплатил за «Якутуголь», однако благодаря взлету цен на уголь в 2011–2012 годах вложения отбились за пять лет и в целом покупка оказалась более чем успешной.
Но есть и очевидные проблемы. Запасов угля «Якутуглю» хватит всего лишь на десять-пятнадцать лет работы, именно такой позиции придерживается Игорь Хафизов. Встает вопрос о моногороде Нерюнгри: что же делать с его пятидесятитысячным населением?
Вектор — на восток

Ответ на этот вопрос есть у «Мечела».
Трудовые ресурсы, компетенции людей, ремонтная база Нерюнгри — все это пригодится на новом месторождении коксующегося угля, Эльгинском. Оно расположено в 400 километрах восточнее Нерюнгри. Месторождение только-только осваивается. Произведены первые вскрышные работы, построена первая обогатительная фабрика. По словам генерального директора «Мечел-майнинг» Павла Штарка, главная цель такой небольшой фабрики — обкатка технологий обогащения эльгинского угля. Полученный опыт и результаты будут учтены при строительстве еще трех фабрик. По плану к 2023 году проект должен заработать на полную мощность и добывать 29,7 млн тонн. Сейчас получаемый продукт — в равных долях коксующийся и энергетический уголь, по мере развития доля первого, металлургического, угля будет расти. В итоге она достигнет 90%, а проект будет давать по 23 млн тонн угля, в основном дефицитного в России марки Ж и немного энергетического. Половину коксующегося угля «Мечел» планирует перерабатывать на своих предприятиях, остальное пойдет на экспорт.
Разрез Нерюнгринский — образец для освоения Эльги Фотографии предоставлены компанией «Мечел»
Анонсированные цифры впечатляют. По данным Минэнерго, в 2013 году потребление российского рынка коксующегося угля составило порядка 38 млн тонн. На экспорт поставлено около 19 млн тонн. Эльгинский проект способен увеличить экспортные возможности страны по металлургическим углям более чем наполовину. Главными рынками сбыта станут страны АТР, на которые приходится 80% мирового экспорта угля: Корея, Япония и, конечно, Китай.
Учитывая восточное направление сбыта, главное преимущество эльгинского проекта — близость к странам-покупателям и к морю: месторождение находится чуть более чем в 300 километрах от Охотского моря. Это напрямую. Если везти уголь по железной дороге до порта, получится дальше: до мечеловского порта Посьет — 2430 километров, до Ванино — 1900. Это существенное преимущество по сравнению с основными конкурентами — угольщиками Кузбасса. Их углям необходимо проехать в два-три раза больше. Естественно, небольшое транспортное плечо заметно улучшает экономику эльгинского проекта. Второй показатель эффективности в отрасли — коэффициент вскрышных работ — на Эльге тоже на высоте и составляет 3,7, то есть на одну тонну угля необходимо вывезти 3,7 кубометра породы. В итоге стоимость добычи на Эльге окажется даже ниже, чем на Нерюнгринском разрезе. По данным международного агентства AME Group, Эльгинский угольный комплекс по уровню затрат на производство занимает седьмое место в мире (66,34 доллара в порту на условиях FOB). Ближайший конкурент, шахта «Распадская», лишь двадцать восьмая по этому показателю.
Но представленные цифры расчетные. Для того чтобы выйти на проектную мощность, Эльгинскому разрезу потребуется огромное количество персонала. Сейчас на работах занято порядка 1,5 тыс. человек. В основном это вахтовая работа. Люди приезжают на месяц на Эльгу, затем месяц отдыхают на Большой земле. Однако освоить огромное месторождение силами вахтовиков невозможно. Люди приезжают, уезжают, но часто предпочитают не возвращаться. Проблема не в неудобствах жизни или отдаленности, а в семьях. Дети неделями не видят отцов, семьи начинают распадаться. Выход очевиден: необходимо перевозить на Эльгу шахтеров вместе с семьями. Для этого рядом с Эльгой планируется строительство города. Самому проекту в ближайшие десять лет потребуется более 7 тыс. работников, плюс 1,5 тыс. работников железной дороги, плюс соцкультбыт, плюс сфера услуг. Все это может потребовать 30–50-тысячного поселения.
Топ-менеджмент «Мечела» с воодушевлением рассказывает, как все будет здорово в новом городе угольщиков. Стоя на высокой сопке, Павел Штарк показывает, где будут построены обогатительные фабрики, куда пойдет разрез, где появятся склады, а где новые микрорайоны, где, возможно, будет возведен аэропорт.
Ключ — дорога

Напомним: приобретая «Якутуголь», «Мечел» взял на себя и обременение — строительство железной дороги Улак — Эльгинское угольное месторождение длиной 315 километров. Проект предполагал возведение 30 крупных мостов, 150 малых, а также двух туннелей. Железнодорожную ветку начали строить силами Министерства путей сообщения. Министерство смогло возвести 60 километров путей, в самом ровном участке, а также часть притрассовой автодороги. Но потом, осознав, что с оценкой финансирования стройки ошиблись в несколько раз, строительство дороги оставили до лучших времен.
Новый этап строительства начался спустя пять лет после замораживания, в 2007 году. Однако руководство «Мечела» кардинально пересмотрело план строительства. Стройка, не без сложностей и финансовых проблем, сдвинулась с мертвой точки и быстро набрала скорость.
«Железнодорожную ветку возводили очень быстрыми темпами, — вспоминает Игорь Хафизов. — Темпы строительства дороги на Эльгу превышали темпы возведения ударного БАМа. Одномоментно на стройке было задействовано до 70 подрядных организаций, 745 единиц техники и 1,6 тыс. человек. Средства были ограниченны, и мы отказались от дорогостоящих туннелей и кардинально пересмотрели количество мостов. Там, где были нужны крупные сооружения, требующие долгого строительства, мы сделали временные насыпи. Цель была одна: соединить Эльгу с БАМом».
В итоге дорога несколько удлинилась. На текущий момент готов 321 километр железной дороги в условиях горной местности и вечной мерзлоты. При этом все мосты возведены с заметным резервом, чтобы выдержать максимальные потоки воды в случае наводнения, происходящего в этих краях раз в сто лет.
Даже заметно секвестированный бюджет строительства оказался значительным. Всего в проект освоения Эльгинского месторождения «Мечел» вложил 2,5 млрд долларов, два из них — в железную дорогу. Но дорога, хотя и введена в строй, еще требует достройки. И пока в этом деле «Мечел» взял паузу. Во-первых, эльгинскому проекту нужно время, чтобы выйти на запланированные мощности, и объем перевозок по дороге пока микроскопический. А во-вторых, у «Мечела» просто закончились деньги. Коммерческие банки, видя баланс компании, реструктурируют старые долги, но не дают новые кредиты.
На помощь компании в этой сложной ситуации пришел ВЭБ, выдавший кредит на 2,5 млрд долларов. Часть средств пойдет на достройку дороги, в частности на строительство разъездных путей, обустройство двух станций и достройку самых крупных мостов. Конечно, дорогу нужно электрифицировать, но и это станет возможным лишь после того, как ФСК ЕЭС достроит линии электропередачи до Эльги. Произойдет это в лучшем случае в 2015 году.
В конечном счете дорога откроет путь в новую угольную провинцию. Помимо Эльгинского месторождения в Токинском угленосном бассейне, прилегающем к железнодорожной трассе Улак—Эльга, находится 22 угольных месторождения, запасы которых могут достигать 40 млрд тонн. Непосредственно к трассе прилегает и Сутамское железорудное месторождение, запасы которого оцениваются в 1,35 млрд тонн, и еще 18 месторождений урана. Местные руды также содержат золото, ванадий, молибден и серебро. В итоге железная дорога — это ключ к созданию Южно-Якутского промышленного кластера, с перспективой ведения горнодобычи более 150 лет. Понятно, что веткой интересуются не только горнодобытчики. Не прочь завладеть ею и РЖД, но у госкомпании нет денег на покупку трассы. Не дают их и в правительстве, ссылаясь на дефицит бюджета. А проблемы «Мечела», хотя и обсуждаются в высоких кабинетах, пока не решаются. «Мечел» не может справиться с выплатой долга, достигшего 8,3 млрд долларов.
Куда завела железная дорога
Конечно, долги «Мечела» возникли не в один день. К нынешнему состоянию компания шла десятилетие. Еще в 2002 году «Мечел» был образцово-показательным металлургом, любимчиком банкиров. Правильно выстроенная логистика, сбалансированный портфель активов — все было идеально. В 2004 году «Мечел» первым среди постсоветских металлургов выходит на IPO в Нью-Йорке и за 11,5% акций получает 335 млн долларов. В том же году Виктор Рашников выкупает у «Мечела» долю в Магнитке за 870 млн долларов. После этих сделок кэша на счетах «Мечела» было в два раза больше, чем долгов.
Но в какой-то момент компанию просто начало заносить. Постоянно растущие цены на продукцию металлургии, а вместе с ними и на сырье: уголь и руду — толкали на сверхагрессивную экспансию.
В 2004 году «Мечел» поглощает «Ижсталь» и покупает порт Посьет, в 2006-м — Московский коксогазовый завод. В 2007-м — Южно-Кузбасскую ГРЭС, «Кузбассэнергосбыт», Братский завод ферросплавов, порт Темрюк, Тихвинский ферросплавный завод и Уватское месторождение кварцитовых руд. В том же году победа на аукционе по «Якутуглю». Помимо этого «Мечел» ведет активную международную деятельность: Шевченковское никелевое месторождение и месторождение хромитовых руд Восход в Казахстане, которые входили в Oriel Resources. Кроме того, заводы в Румынии, Литве и на Украине. В итоге к кризису «Мечел» подходит с портфелем кредитов на 5 млрд долларов.
Но не успели цены на металлы восстановиться, как «Мечел» покупает актив в США — Bluestone Coal, это добавляет 0,4 млрд долларов долга. Купленные месторождения требовали развития, заводы — модернизации. Например, на Челябинском металлургическом комбинате в 2013 году был запущен рельсобалочный стан, обошедшийся компании в 715 млн долларов (см. «Мечел» позаботился о длине», «Эксперт» № 29 за 2013 год).
Почти три года назад золотое десятилетие металлургии подошло к концу. С 2012 года цены на металл, уголь и руду начали снижаться, а вместе с ними и рентабельность разбухшего «Мечела». Банки-кредиторы стали переживать и давить на руководство гиганта. Еще бы, ведь все покупки и строительство велись на заемные средства, в итоге к 2012 году долг компании составил почти 10 млрд долларов. За последний год его частично удалось сократить — до 8,3 млрд долларов, но доходов от операционной деятельности стало не хватать. Например, EBITDA по итогам 2013 года — 730 млн долларов, а затраты на обслуживание долга — 742 млн. В ответ на давление «Мечел» начал реструктуризацию активов: распродажу и закрытие заводов, пересмотр стратегий и сроков ввода новых мощностей. Хотя многие активы выбыли из состава группы, долги, которые брались на их покупку, остались.
Но расчеты показывают, что если бы «Мечел» не влез в эльгинский проект, то ему бы не пришлось идти на столь болезненную реструктуризацию. В освоение месторождения компания уже вложила 2,5 млрд долларов. Плюс стоимость кредитов. Основные вложения в Эльгу произошли еще в 2007–2008 годах. Предположим, что первые два года «Мечел» развивал ее за счет дешевых западных кредитов, взятых под 5% годовых. В итоге к 2009 году расходы на Эльгу плюс проценты — это уже 2,75 млрд долларов. Затем западные рынки схлопываются. «Мечел» занимает у российских банков, пусть даже по рекордно низкой для России ставке 8,5% годовых. Но кредиты короткие, их приходится рефинасировать. Итого за пять лет на долг 2,75 млрд долларов набегает 1,5 млрд долларов сложных процентов. Без этих сумм чистый долг компании мог бы составить немногим более 4 млрд долларов. Кроме того, на Эльге сейчас ведется операционная деятельность. Люди работают, дизели генерируют электроэнергию, экскаваторы грузят, железнодорожная ветка функционирует. А уголь еще практически не добывается. Предположим, все это дает еще 100 млн долларов убытков в год — на столько больше могла бы быть EBITDA «Мечела», не будь Эльги. В итоге соотношение долг/EBITDA у «Мечела» без эльгинского проекта могло бы быть на уровне пяти, а это по текущим меркам вполне приемлемый показатель (у того же «Евраза» отношение чистого долга к EBITDA 3,6, у ТМК — 4,1, у «Распадской» — 18).
Но проводить аналогии не вполне уместно. «Мечел» — единственная металлургическая компания в России, выстраивающая единую производственно-логистическую цепочку угольный разрез — железная дорога — порт. В мировой практике все горнорудные гиганты имеют в основе такую структуру. В России это тоже оправданно: на Дальнем Востоке дефицит портовых мощностей и, каким бы эффективным уголь ни был, всю маржу компании пришлось бы оставлять на перевалке. Именно поэтому Игорь Зюзин бился за Ванино, тем самым обеспечивая жизнь своему самому крупному проекту — Эльге. Конечно же, такая стратегия требует огромных капитальных затрат.
Подождем и посмотрим
Казалось бы, проблема закредитованности «Мечела» — это его собственная беда и беда банков, его

кредитующих, а также лично Игоря Зюзина, который не соизмерил свои возможности и возможности его компании с конъюнктурой. Однако это одна сторона медали. На другой стороне тот факт, что Эльга — пионер в новой волне освоения ресурсов Дальнего Востока и Восточной Сибири. На российском горнометаллургическом рынке масса анонсированных проектов, но до такой глубокой стадии реализации, как Эльга, они еще пока не дошли. Исключение из правил — драгоценные металлы, добыча которых все-таки осуществляется.
Зачастую все подобные проекты натыкаются на транспортную и энергетическую недоступность региона, сложные бюрократические правила и нормативно-правовую базу. А бизнесмены в отрасли не спешат решать все эти проблемы за свои деньги и предпочитают наблюдать в сторонке за тем, как идут дела у «Мечела» и как он борется за жизнь.
Для примера можно посмотреть на ГМК «Тимир» — совместное предприятие Evraz Plc. и «Алросы». Оно владеет четырьмя лицензиями на железорудные месторождения на юге Якутии: Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское. Совокупные балансовые запасы — 4,8 млрд тонн руды. Проект предполагает строительство двух ГОКов общей мощностью 11,4 млн тонн. Общий размер инвестиций — более 400 млрд рублей, выход на проектную мощность изначально ожидался в 2020 году. Однако весной «Тимир» согласовал новые сроки строительства металлургического завода. Роснедра разрешили ГМК начать строительство комбината не в 2014 году, как требовало лицензионное соглашение, а после 2020-го.
Другой пример — Удокан, медное месторождение, принадлежащее «Металлоинвесту». В апреле правительство РФ утвердило перенос сроков старта добычи медной руды на четыре года. Начало строительства предприятия на месторождении перенесено на 2020 год, на всю мощность, 36 млн тонн руды в год, оно выйдет лишь к 2024-му.
Третий пример — ГМК «Норильский никель», который осенью 2013 года сдвинул сроки освоения Быстринского золотомедного месторождения в Забайкальском крае на 2018 год. Согласно лицензии компания должна начать добычу не позднее 2014-го, причем по плану добыча должна была выйти на полную мощность в 2017 году. «Норникель» ссылается на то, что не может приступить к их разработке раньше из-за недостроенной железной дороги и отсутствия электросетей.
Таких примеров можно привести еще множество. В итоге крупнейшие российские компании, ссылаясь на ту или иную проблему, тормозят добычу сырья в ожидании улучшения конъюнктуры, либо финансовой помощи от государства, либо возведения инфраструктуры. Ждать совпадения всех этих факторов можно десятилетиями. А время играет против России.
Во-первых, население стареет, а навыки работы в промышленности утрачиваются. Пока освоить ресурсы востока страны еще можно силами и опытом населения моногородов, а уже потом передать опыт новым поколениям горняков. Во-вторых, дефицит сырья в азиатских странах не вечен. Скорее рано, чем поздно, он будет покрыт сырьем из Австралии, Африки или Латинской Америки. Пока потребление на сырьевых рынках растет, долю на них можно получить относительно «бескровными» методами. Согласно данным агентства AME Group, спрос на коксующийся уголь в ближайшие годы продолжит расти, и если сейчас азиатские рынки поглощают 250 млн тонн металлургического угля, то через десять лет эта величина достигнет 350 млн тонн. И если развитие Дальнего Востока и Сибири действительно нужно стране, то государству придется заняться им вплотную, а не оставлять все на откуп частному бизнесу, пусть даже крупному.
Государство с краю
Роль государства в ситуации «Мечела» неоднозначна. С одной стороны, оно поддерживает развитие Эльги через механизмы кредитования ВЭБом. С другой стороны, госбанки ставят подножку Игорю Зюзину, пытаясь атаковать «Мечел». Однако в ситуации «Мечела» есть и вина государства.
Во-первых, вспомним об уже набившей оскомину дороговизне кредитов: на примере Эльги прекрасно видно, как крупный инфраструктурный объект обескровливает компанию во многом за счет дорогих денег. И это не предел. Железная дорога до Эльги на мощности, способные окупить хотя бы ее содержание, выйдет минимум через два-три года. А это еще порядка миллиарда долларов процентных платежей для «Мечела».
Во-вторых, инфраструктура: после «Мечела» вряд ли кто-то еще рискнет строить за свой счет крупную инфраструктуру, кроме уполномоченных на то госкомпаний. В данной ситуации лучше подождать несколько лет и дождаться введения в строй автотрассы, железной дороги, линий электропередачи и проч. Или выпросить у государства на это деньги. Например, Тувинская энергетическая промышленная корпорация Руслана Байсарова, осваивающая Элегестское угольное месторождение, намерена строить железнодорожную ветку в основном за счет Фонда национального благосостояния.
В-третьих, ряд проектов с участием государства принес частному бизнесу серьезные убытки — достаточно вспомнить проекты в Сочи, из-за которых обанкротилась компании «Мостовик». Юристы и банкиры говорят, что условия работы с крупными стройками крайне жесткие. Более того, госорганы не спешат рассчитываться за сделанные работы, а, напротив, всячески изыскивают способы снизить стоимость контрактов уже после выполнения работ.
Крупный бизнес, строя проекты в восточной части страны, создает доходную основу, дает экономический смысл существованию этих территорий в составе страны. Во многом бизнес не только дает работу миллионам россиян, но и решает государственные задачи, такие как судьба моногородов, забота о населении, обеспечивает функционирование инфраструктуры, тех же железных дорог, аэропортов и электросетей. Поэтому разумно было бы оказывать всяческую поддержку бизнесу, ведущему такие масштабные комплексные проекты.
Помощь государства не должна сводиться к выделению денег из бюджета или ВЭБом. И этот инструмент должен быть скорее форс-мажорным, нежели основным. Например, «Мечелу» не обязательно было перекредитовываться или закладывать имущество под стройку железной дороги. Дорогу можно было выделить в SPV-компанию под управлением РЖД. Эта SPV-компания могла бы выпустить облигационный заем. Купоны по облигациям закрывались бы за счет арендной платы со стороны «Мечела» и других пользователей дороги. Эта схема могла бы разгрузить баланс «Мечела» и не создала бы финансовых трудностей у РЖД. Но для существования таких форм нужны недорогие кредиты и развитый финансовый рынок.
Тех, кто может и желает заниматься глобальными стройками, в нашей стране немного. Их стоило бы ценить, а не вставлять им палки в колеса.
.jpg) «В этом году у нас на Эльге невероятное нашествие медведей. Уже штук десять заходило», — рассказывает директор «Якутугля» Игорь Хафизов. Опытный хищник боится шума дизелей, в поселок вахтовиков заходят молодые медвежата. В июне им нечего есть в лесу, и они приходят к человеческому жилью покопаться в мусоре. До ближайшего якутского города Нерюнгри более 400 километров. В тайге, среди гор Токинского становика, вдали от аэропортов, дорог, линий электропередачи «Мечел» разрабатывает Эльгинское угольное месторождение — одно из крупнейших в мире, с разведанными запасами 2,2 млрд тонн. Это один из самых значимых проектов в мировой угольной отрасли за всю ее историю и крупнейший проект по производству коксующегося угля в России.
«В этом году у нас на Эльге невероятное нашествие медведей. Уже штук десять заходило», — рассказывает директор «Якутугля» Игорь Хафизов. Опытный хищник боится шума дизелей, в поселок вахтовиков заходят молодые медвежата. В июне им нечего есть в лесу, и они приходят к человеческому жилью покопаться в мусоре. До ближайшего якутского города Нерюнгри более 400 километров. В тайге, среди гор Токинского становика, вдали от аэропортов, дорог, линий электропередачи «Мечел» разрабатывает Эльгинское угольное месторождение — одно из крупнейших в мире, с разведанными запасами 2,2 млрд тонн. Это один из самых значимых проектов в мировой угольной отрасли за всю ее историю и крупнейший проект по производству коксующегося угля в России. Ответ на этот вопрос есть у «Мечела».
Ответ на этот вопрос есть у «Мечела». Напомним: приобретая «Якутуголь», «Мечел» взял на себя и обременение — строительство железной дороги Улак — Эльгинское угольное месторождение длиной 315 километров. Проект предполагал возведение 30 крупных мостов, 150 малых, а также двух туннелей. Железнодорожную ветку начали строить силами Министерства путей сообщения. Министерство смогло возвести 60 километров путей, в самом ровном участке, а также часть притрассовой автодороги. Но потом, осознав, что с оценкой финансирования стройки ошиблись в несколько раз, строительство дороги оставили до лучших времен.
Напомним: приобретая «Якутуголь», «Мечел» взял на себя и обременение — строительство железной дороги Улак — Эльгинское угольное месторождение длиной 315 километров. Проект предполагал возведение 30 крупных мостов, 150 малых, а также двух туннелей. Железнодорожную ветку начали строить силами Министерства путей сообщения. Министерство смогло возвести 60 километров путей, в самом ровном участке, а также часть притрассовой автодороги. Но потом, осознав, что с оценкой финансирования стройки ошиблись в несколько раз, строительство дороги оставили до лучших времен. кредитующих, а также лично Игоря Зюзина, который не соизмерил свои возможности и возможности его компании с конъюнктурой. Однако это одна сторона медали. На другой стороне тот факт, что Эльга — пионер в новой волне освоения ресурсов Дальнего Востока и Восточной Сибири. На российском горнометаллургическом рынке масса анонсированных проектов, но до такой глубокой стадии реализации, как Эльга, они еще пока не дошли. Исключение из правил — драгоценные металлы, добыча которых все-таки осуществляется.
кредитующих, а также лично Игоря Зюзина, который не соизмерил свои возможности и возможности его компании с конъюнктурой. Однако это одна сторона медали. На другой стороне тот факт, что Эльга — пионер в новой волне освоения ресурсов Дальнего Востока и Восточной Сибири. На российском горнометаллургическом рынке масса анонсированных проектов, но до такой глубокой стадии реализации, как Эльга, они еще пока не дошли. Исключение из правил — драгоценные металлы, добыча которых все-таки осуществляется.